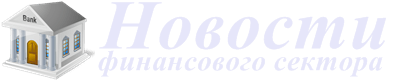Пять на одного: зачем в России вводят лимит банковских карт? Комментарий Семена Новопрудского
Введение ограничений на количество банковских карт для одного человека в России подается как мера по борьбе с мошенничеством, но в своем нынешнем виде это скорее мягкий шаг в сторону общемирового тренда: государства хотят максимально контролировать все платежи и потребительское поведение людей, уверен колумнист

Семен Новопрудский. Фото: Татьяна Фролова
На российском рынке уже с декабря 2025 года могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые может оформить один человек, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт на человека в одной кредитной организации и не более 20 — во всех банках суммарно. Ранее максимальное количество карт планировалось ограничить до десяти, но от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.
В Банке России поддерживают эту меру и считают, что ограничение количества карт на человека поможет бороться с финансовым мошенничеством. Прежде всего речь идет о бандах дроперов, которые предоставляют свои карточные счета для вывода денег в пользу финансовых мошенников и в которые активно вовлекают в том числе подростков. При этом в России летом этого года уже введена уголовная ответственность за дроперство с максимальным сроком лишения свободы до шести лет и штрафом в 1 млн рублей.
Проблема в том, что лимит пять карт на человека в одном банке и 20 суммарно с точки зрения реального количества пластика у россиян выглядит невероятно «просторным». Точной статистики по реальному количеству карт в РФ нет, к тому же есть достаточно много спящих карточных счетов, которые не используются, но есть оценки и опросы. Примерно на 110-113 млн совершеннолетних россиян приходится 330-350 млн банковских карт, то есть в среднем по три на человека.
Согласно июньскому опросу, проведенному МТС AdTech, 33% россиян имеют две дебетовых карты, а 22% респондентов — три. Как минимум одна дебетовая карта есть у четверти опрошенных. Не имеют дебетовых карт всего 3% россиян. При этом 42% опрошенных респондентов пользуются только одной картой, 40% — двумя и 12% — тремя. То есть даже пять карт на человека и даже с учетом кредиток, выдача которых в России в последние месяцы стремительно падает, не говоря уже о 20 (а именно таков предельный лимит, который хотят установить), — это очень много.
Гораздо важнее в этом лимите то, что одновременно с введением ограничений должен быть запущен специальный сервис, который позволит клиентам банков отслеживать, когда и где они выпускали свои карты, на случай если вдруг человек забыл. Но главное, что такой сервис позволит отслеживать количество карт у конкретного человека и место их выпуска кредитным организациям и Банку России. Это особенно важно для регулятора, поскольку банки выпускают в том числе неименные моментальные карты, а теперь к выпуску пластика активно подключились и маркетплейсы, такие как «Яндекс», Ozon и Wildberries, которые обзавелись для этого собственным банковским бизнесом. С другой стороны, создание такого единого карточного реестра с постоянными актуальными обновлениями кажется достаточно сложной задачей: слишком массовый и разнообразный продукт.
А теперь вспомним о том, что банковская карта, в отличие от наличных денег, — собственность банка, но не человека. Когда мы расплачиваемся банковскими картами, дебетовыми или кредитными, мы лишь пользуемся ими, а не владеем. Поэтому лимит, по сути, вводится и для банков, а не только для граждан. Сами банки, естественно, и так отслеживают все платежи по своим картам, но только по своим. А теперь должен появиться единый сервис отслеживания выпуска всех карт. И это дает возможности как минимум Банку России отслеживать все платежи по всем картам.
Все безналичные платежи, а их доля в рознице, по озвученной на днях главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной оценке, достигла в первом квартале 2025 года рекордных 87,5%, контролируются государством гораздо лучше, чем наличные. Всего же россияне, по словам Набиуллиной, 88,5% финансовых услуг уже приобретают в цифре. И по этому показателю Россия входит в топ-5 стран мира.
Следующий уровень финансового «порабощения» граждан государством — введение цифровых валют. Тот же цифровой рубль вообще работает де-факто вне банковской системы, а транзакции контролирует сам Банк России. И хотя у нас ради поддержки этого начинания сами работники ЦБ заявили о намерении в порядке эксперимента получать зарплату в цифровых рублях, если их в какой-то момент попытаются сделать обязательным, а не добровольным платежным средством, это радикально изменит саму суть платежной, да и в целом финансовой системы в стране.
Никакого экономического или практического смысла для граждан и компаний в цифровых национальных валютах нет: такие валюты ничем не лучше, не удобнее, не выгоднее уже существующих безналичных или наличных способов платежей. Зато конкретный социальный и экономический смысл в цифровых национальных валютах есть для государства: это первое платежное средство, контроль над которым предельно централизован и сосредоточен даже не в банках или других финансовых организациях, а непосредственно в центробанках.
Попытки государств поставить под максимальный контроль все финансовые операции граждан, а в идеале еще и управлять потреблением набирают силу повсюду в мире. В Китае, мировом лидере по внедрению практик тотального цифрового контроля за гражданами, уже экспериментировали с электронными сертификатами — квазивалютой, которая имела конкретный срок действия. Иными словами, само государство тестировало возможность «включать» и «выключать» деньги для конкретных граждан, управляя их потреблением практически в ручном режиме.
Так что сам лимит карт на человека в России пока выглядит чем-то вроде невода с невероятно широкими ячейками, сквозь которые легко выберется обратно в водоем любая «рыба». Но для того, чтобы отслеживать соблюдение лимита, должна быть создана единая система контроля за выпуском банковских карт, а уже потом лимит в любой момент легко можно ужесточать. Разумеется, под благовидным предлогом борьбы с мошенничеством.
Смотрите также:

Онколог Игорь Хатьков о методах ранней диагностики

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров о том, чем живет российское общество

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов об изменениях системы образования с появлением ИИ

Сооснователь Monochrome Николай Богданович: как устроен российский модный бизнес

Директор МАММ Ольга Свиблова о том, почему ИИ никогда не заменит художника

Наталья Касперская о том, за чем следят системы IT-безопасности
При этом сами государства, которые, по сути, тоже пытаются залезть в «кошелек» гражданина и в максимально возможной степени управлять его финансовыми операциями, мошенничеством это, конечно, не считают.